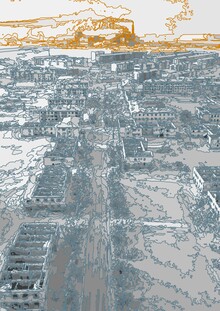ГЛАВА iv: ИНАКОВОСТЬ
болезнь
«Кровоточащая и гноящаяся рана или запах пота, разложения сами по себе не означают смерть. Означенная, например, плоской энцефалограммой, смерть понятна, принята, вызывает соответствующую реакцию. Но нет, таков истинный театр — без ретуши и без маски: отбросы вроде трупа указывают мне на то, что именно я постоянно отодвигаю от себя, чтобы жить. Жизнь с трудом переносит эти непотребности, эту грязь, это дерьмо, — жизнь переносит это только под угрозой смерти. Я на грани своего живого состояния. От этих границ начинается мое живое тело.»
— пишет Ю. Кристева. Если эффект отвращения оказывает мертвое тело и то, как оно указывает на хрупкость границы между жизнью и смертью, болезнь можно также рассматривать как существующую в этом лиминальном пространстве. Именно поэтому одержимое тело оказывает такой завораживающий эффект, вызывает жажду репродуцировать этот образ снова и снова. Толчок и тяга между жизнью и смертью, между властью и потерей контроля питают болезненное любопытство зрителя в той же мере, в какой пугают и тревожат. Однако здесь стоит вернуться к двойственности монстра: наряду со зрелищем отвращения, монстр является и проводником эмпатии. Те же самые детали, которые связывают омерзительное с нашим повседневным опытом и вызывают висцеральный ужас, также вызывают ответную жалость и, прежде всего, ощущение родства.

«Глаза звезды», реж. К. Колш, 2014
Многое указывает на близость одержимого состояния и болезни, в конце концов, демонические «расстройства» исторически считались одним из видов безумия:
«Но само понятие одержимости демоном не было, так сказать, концептуально тревожным для многих умов раннего модерна. Это состояние было обычной чертой социальной жизни, как она тогда воспринималась…»
— пишет Стюарт Кларк
Как становится понятно из исторических случаев, таких как процесс о Луденских бесах, одержимость использовалась и для пропаганды, точно так же, как, например, наркотическая зависимость. «Демоническое безумие» было не просто вопросом религии и отражением верований эпохи — оно становилось политическим инструментом. Успешный экзорцизм всегда доказывал добродетель самого экзорциста и церкви, к которой он принадлежит, и, в свою очередь, слабость предполагаемого зла. Не меньше, чем кресты и святая вода, тело одержимого становится не просто частью представления, подтверждающего существующий порядок, но и его базовым объектом. Это очень напоминает политические кампании, такие как «война с наркотиками», где тело наркомана, его физические симптомы и страдания выставляются как причина для захвата и колонизации.
«Заклятие 3: По воле дьявола», реж. М. Чавес, 2021
Если демон отражает собой нарушение в общественном порядке, а экзорцизм — его перформативное восстановление, то эту динамику необходимо рассматривать как, в том числе, форму государственной репрессии и насилия, которой подвержены самые уязвимые члены общества. Как уже было описано раньше, поджанр фильмов о демонической одержимости глубоко обеспокоен отношениями человека и государственных институтов, и потому часто параноидален. Настолько же он обеспокоен и вопросом тела — тела ненормативного, тела, отказывающегося от производства, тела больного. Важными здесь кажутся слова С. Сонтаг:
«Каждый, кто рождается, имеет двойное гражданство — в царстве здоровых и в царстве больных. Хотя все мы предпочитаем пользоваться только хорошим паспортом, рано или поздно каждый из нас вынужден, по крайней мере, хотя бы на время, идентифицировать себя как гражданина того, другого места.»
«Изгоняющий дьявола», реж. У Фридкин, 1973
Они подчеркивают то, что за противоречием «человеческое, но тем не менее демоническое» скрываются реальные интерпретации одержимости как экстремального проявления болезни, с которым рискует столкнуться каждый человек. Больное одержимое тело — это тело, с которым плохо обращаются и о котором не заботятся государственные системы. Вольно или невольно, поджанр демонической одержимости улавливает это напряжение, о чем свидетельствуют описанные ранее сцены медицинского хоррора из «Изгоняющего дьявола» (Уильям Фридкин, 1973) и «Демонов Деборы Логан» (Адам Робител, 2014).
«Демоны Деборы Логан» обуславливает свой стиль найденной пленки тем, что этот фильм подразумевался как учебный проект главных героев о болезни Альцгеймера. И хотя позже происходящее с Деборой обуславливается сверхъестественным, такой фрейминг позволяет рассмотреть подверженные деменции тела под особым углом. В начале фильма зрителю показаны фотографии стариков с деменцией — они вызывают не только чувство жалости, но и шока, так как по ним видно, что они больше не действуют по тем же законам, что и все остальные тела. Они, в определенной степени, одержимы забвением: пока не мертвы, но уже и не в сознании. Предполагаемый переход в это состояние является основным фактором страха и постепенного отстранения от Деборы, позволяющего в финале рассматривать ее как полноценного монстра, отчужденного от собственной человечности. Фильм подчеркивает ее постоянные переходы из сознательного в бессознательное состояние — иногда ее отсутствующий взгляд не выражает ничего, даже в моменты, когда она наносит себе вред, а иногда кажется, что осознание собственных действий выходит на поверхность.
«Демоны Деборы Логан», реж. А. Робител, 2014
Как уже было описано в Главе ii, духовный конфликт отца Карраса основывается на его чувстве вины по отношению к собственной больной матери. В первой сцене, где она появляется, Каррас бинтует ей ногу — намек на рану, источающую телесные жидкости, сразу же придает ей степень отвращения. Позднее этот образ преследует Карраса повсюду: в кататонических телах женщин в больнице, в бездомном мужчине в метро и в финальной конфронтации с Пазузу, которая обсуждалась в разделе «Духовный конфликт» Главы ii. Все эти тела представлены летаргическими, практически полностью обездвиженными.
«Демоны Деборы Логан», реж. А. Робител, 2014
Важной деталью в «Святой Мод» (Роуз Гласс, 2019) является тот факт, что больную раком Аманду редко можно увидеть без того, чтобы что-то прикрывало ее лысеющую от химиотерапии голову. Этим подчеркивается не столько ее желание сделать свою болезнь невидимой, сколько жажда прожить оставшиеся дни гедонистически, без оглядки на собственные физические ограничения. Так проявляется ее идеологическое столкновение с Мод, которая идеализирует мученичество и подчинение воле высших сил. В этом контексте интересно, что в одной из финальных сцен фильма, где Аманда кажется Мод одержимой, она выглядит наиболее уязвимой и слабой, лежа в кровати без привычного головного убора.
«Святая Мод», реж. Р. Гласс, 2019
Помимо тел, подверженных смертельным болезням, поджанр изображает и тела, вынужденные жить со своей ненормативностью на постоянной основе. При этом, сложно не заметить, что отображение это выявляет неявные предвзятости создателей и зрителей, обладающих «здоровыми» (трудоспособными) телами. Например, в фильме «Реинкарнация» (Ари Астер, 2018) сознательно задействована актриса с ключично-черепным дизостозом Милли Шапиро, чья внешность использовалась в маркетинге и в самом фильме для нагнетения жуткости. В рамках фильма ненормативная внешность девочки совмещена с плохо сидящей одеждой и нейроотличными чертами поведения, чтобы создать ощущение ее неправильности. Так, когда она отрезает голову мертвому голубю или в целом ведет себя «странно», это вписывается в один из самых старых кинематографических тропов: физическая безобразность человека отражает его моральные изъяны.
«Реинкарнация», реж. А. Астер, 2018
Интересно сравнить двух персонажей с инвалидностью: Жанну из «Дьяволов» (Кен Рассел, 1971), страдающую от сильной деформации позвоночника и экзорциста Сета Эмбера из фильма «Инкарнация» (Брэд Пейтон, 2016), после аварии потерявшего возможность ходить. Горб Жанны приносит ей страдания — подразумевается, что именно из-за него она подвержена остракизму со стороны общества и вынуждена принять монашеский постриг. Это считывается в одной из ее фантазий, где горб сначала прикрыт длинными волосами, а затем становится заметен и окружающим, которые начинают смеяться над Жанной. Все это сопровождается порывами сильнейшего ветра, стихии, которой монахиня не в силах противостоять. Ее деформация становится главной слабостью ее характера, питает в ней зависть и злорадство. Это подчеркивает и Хаксли:
«С ненавистью к окружающим, отверженная, она жила в некоем панцире и высовывалась наружу лишь для того, чтобы атаковать врагов.»
Даже несмотря на то, что, в отличие от Сета, Жанна являлась реальной исторической фигурой, в книге Хаксли, интерпретирующей исторические события, и, следовательно, в основанном на ней фильме Рассела, инвалидность монахини воспринимается как христианское испытание, которое та не выдерживает. Вновь можно заметить паттерн особой падкости женщин на соблазн — в данном случае, инвалидность также используется как сигнификатор внутренних изъянов.
«Дьяволы», реж. К. Рассел, 1971
С другой стороны, Сет Эмбер в «Инкарнации» демонстрирует другой конец спектра и, возможно, не менее консервативную интерпретацию деформированного тела. Потеря возможности ходить для него становится препятствием, которое стоически преодолевается и отражает его особый героизм. В кадре, например, показано, как он передвигается наравне с другими персонажами без каких-либо препятствий — никакого внимания не обращается на доступность для него зданий или городской среды, а когда он проникает в сознание одержимых, чтобы бороться с демонами, он снова может ходить. Кроме того, подразумевается, что именно его физическая «недостаточность» наделяет его экстрасенсорными способностями, дает ему доступ в сферу, недоступную для «нормальных» людей. Этот весьма известный троп «инвалидность-суперсила» в сообществе людей с ненормативными телами считается устаревшим, поскольку он рисует нереалистично высокий стандарт для инвалидов: им предписано не только справляться с каждодневными сложностями жизни в мире, предназначенном для тел нормативных, но и быть могущественнее, чем другие люди.
«Инкарнация», реж. Б. Пейтон, 2016
Толстое тело как ненормативное также встречается в поджанре. Например, в фильме «Заклятие 3: По воле дьявола» (Майкл Чавес, 2021) тело толстого мертвеца становится одержимо и оживает, пока герои находятся в морге. Его тело стоит в темном углу комнаты, свет подчеркивает его изгибы и отражается от его кожи таким образом, как будто он может взорваться в любую минуту. Толстое тело считается таким же переполненным, обжорливым и грязным в смерти, как и в жизни: волосы мертвеца влажные, словно бы от пота, а лицо как будто испачкано едой. Там, где другие призраки воспринимаются как потусторонние и бесплотные, призрак толстяка все еще чрезвычайно привязан к тому, как когда-то воспринималось его тело.
«Заклятие 3: По воле дьявола», реж. М. Чавес, 2021
Фильм «Дары смерти» (Шон Бирн, 2015) также использует крупное телосложение главного антагониста как обозначение его подверженности пороку. При этом, персонаж всегда одет в красный спортивный костюм, что еще сильнее увеличивает его доминантность в пространстве. Кроме того, фильм использует довольно стереотипные признаки нейроотличности (нежелание поддерживать зрительный контакт, проблемы с формулированием предложений, косоглазие) как факторы, отличающие его от окружающих или вызывающие дискомфорт.
«Дары Смерти», реж. Ш. Бирн, 2015
Здесь стоит вернуться к фильму «Реинкарнация» и персонажке Чарли, для которой характерен похожий паттерн — она также не поддерживает зрительный контакт, мало говорит, полностью поглощена созданием самодельных кукол из веток и прочего мусора и часто издает щелкающие звуки языком. Все это в комплексе кодирует ее как аутичного ребенка, при этом ее сенсорная самостимуляция (щелкание) активно используется, например, в трейлере фильма, как узнаваемый и «жуткий» звук, предназначенный для того, чтобы остаться со зрителем даже после окончания просмотра. Все это поддается стереотипу о том, что поведение аутичных людей, такое как пассивное выражение лица и отсутствие зрительного контакта, говорит о том, что они что-то скрывают, а следовательно, опасны — этот же случай уже был описан в связи с фильмом «Омен» (Ричард Доннер, 1976) в разделе «Гендер» Главы iii. Такие образы одержимых существуют на границе между предоставлением ребенку права распоряжаться своими действиями и лишением его этого права:
«…в рассказах о злых детях зло является следствием, а не причиной, реакцией на влияние, а не сущностью. Тексты о злых детях, по сути, не хотят признавать за детьми заслугу в совершаемом ими зле; вместо этого лучше представить их испорченными.»
— Карен Дж. Реннер
«Реинкарнация», реж. А. Астер, 2018
Страх перед тем, что дети могут быть испорчены либо демоническим влиянием, либо внезапными симптомами психических заболеваний или нейроотличности, указывает на то, что дети рассматриваются как своего рода капитал, собственность. Их можно выставлять как трофей, а их хорошее поведение, прилежность и академические достижения являются необходимой частью (экономически) благополучного дома. Фильм «Бабадук» (Дженнифер Кент, 2014) создает очень гуманистический взгляд на этот вопрос, изображая трудности матери, ухаживающей за аутично-закодированным ребенком. Ее сын подчеркнуто отличается от других детей, предпочитая компанию матери своим сверстникам, и в течение фильма это напряжение сепарации только усиливается — становится понятно, что, в отличие от ее финансово-благополучных подруг, у Амелии нет возможности отдохнуть, отдать ребенка няне, уехать в отпуск или даже иметь собственные хобби. Это становится наиболее очевидно во время сцены дня рождения, где главная героиня противопоставлена группе матерей по классовому признаку: камера четко отделяет ее от остальных женщин и поэтому, когда они смотрят с осуждением, зритель болезненно ощущает этот взгляд и на себе.
«Бабадук», реж. Дж. Кент, 2014
При этом, сам мальчик Сэм и его нейроотличные черты поведения также очеловечиваются. Его страх мистера Бабадука, сначала кажущийся нелогичным и чрезмерным, оказывается вполне резонным; его повышенная бдительность объясняется высокой эмоциональной чувствительностью, способностью считывать напряжение, которого не видит никто другой. Гиперфиксация Сэма на фокусах и изобретении ловушек помогает ему в финале фильма защититься от одержимой матери и связать ее, чтобы с ней поговорить. Фильм не стесняется говорить о сложностях материнства, но особенности нейроотличного ребенка не становятся корнем проблемы.
«Бабадук», реж. Дж. Кент, 2014
В целом, если говорить об одержимости как о «демоническом безумии», ее следует рассматривать в оппозиции капиталистическому производству. Отказ производить — производить женскость, детскость, материнство — надлежащим образом, отказ подчиняться диагнозу и анализу, в этом и лежит главный бунт одержимого персонажа и одержимого тела. То, что окружающие структуры не могут осмыслить, они не могут превратить в товар. Вот как Д. Кросби описывает Риган и ее неподчинение языку:
«Соотнося Риган с понятием катарсиса, мы не сводим Риган к молчанию, а исследуем представление о том, что в Риган есть внутреннее переживание, или невыразимый язык, который накапливается в ней и приводится в действие через соединение желчи, заразы и жестокого отторжения.»
Примером этого становится легендарная сцена, в которой ее рвет гороховым супом через всю комнату прямо в лицо отцу Каррасу. Это не только сопоставляется с фрейдистской идеей об истерии как очищении от травмы через симптомы физической болезни, но и становится телесным отрицанием попыток очистить девочку, заставить ее замолчать. После этого ее взгляд направлен прямо в камеру, из-за чего этот конфликт осмысления переносится и на зрителя. Так же как и Анна О. в «Исследованиях истерии», Риган и многие другие одержимые начинают использовать в своей речи другие языки.
«Изгоняющий дьявола», реж. У Фридкин, 1973
Как уже было описано в Главе iii, бунт Анны в «Одержимости» (Анджей Жулавский, 1981) перестает подчиняться языку во время сцены выкидыша. Перед этим у нее сначала идет кровь из носа, потом она режет себе шею, а Марк пытается ее забинтовать. Поток крови Анны подавляется, но все равно в итоге вырывается наружу в сцене в метро. Когда предполагаемый демон начинает занимать место в теле, эмоции (в случае Анны, ее «Сестра-вера») вытесняются наружу, они буквально выливаются и загрязняют пространство и людей вокруг, и отвращение, которое они вызывают, оказывается отвращением ко всему неуместному и непристойному.
«Одержимость», реж. А. Жулавский, 1981
В фильме «Мать Иоанна от ангелов» (Ежи Кавалерович, 1961) одержимость монахинь проявляется не в конвульсиях и не в пролитии телесных жидкостей: они вертятся вокруг своей оси, танцуют, лежат на полу неподвижно, принимая форму крестов. Принятие телом новой формы, кажущейся абсурдной в пространстве, где оно находится — очень точная метафора одержимости как восстания, отказа вписываться в женскую роль, такую, какой ее видит религия. Можно сказать, что это отрицание религиозного производства праведности в исполнении скромности и смирения.
«Мать Иоанна от ангелов», реж. Е. Кавалерович, 1961
В случае, когда одержимость связывается с наркотической зависимостью, к примеру, в фильмах «Зловещие мертвецы: Черная книга» (Федерико Альварес, 2013), «Одержимость Авы» (Джордан Гэлланд, 2015) и «Древние ритуалы» (Кристофер Алендер, 2020), она также четко вписывается в нарратив очищения ума посредством очищения тела. Подобные фильмы, напротив, фокусируются на том, каким этот процесс хочет видеть государство и другие структуры власти, при этом в них присутствует аспект вины одержимого в том, что он открывает себя для демонического влияния, снова и снова возвращаясь к употреблению. В фильме «Древние ритуалы» героиня, несмотря на усилия окружающих ее персонажей «изгнать» из нее демона, продолжает употреблять, только навлекая на себя еще больше соприкосновений с потусторонним. В «Одержимости Авы» эта мысль, напротив, высмеивается: когда сразу после экзорцизма родители главной героини спрашивают, курит ли она до сих пор марихуану, она отвечает: «Вы серьезно вините меня в том, что я одержима?»
слева направо «Зловещие мертвецы: Черная книга», реж. Ф. Альварес, 2013; «Одержимость Авы», реж. Д. Гэлланд, 2015; «Древние ритуалы», реж. К. Алендер, 2020
«Одержимость Авы», реж. Дж. Гэлланд, 2015
«Зловещие мертвецы: Черная книга», реж. Ф. Альварес, 2013
Важно также обратить внимание на то, что одержимость, как и наркотическую зависимость, окружающее сообщество всегда пытается скрыть. В начале фильма «Зловещие мертвецы: Черная книга» особо подчеркнут путь героев к хижине в лесу, изолированность хижины от внешнего мира. Персонажи фильма привозят главную героиню, Мию, в лес, чтобы в изоляции переждать ее героиновую ломку — совершенно не обязательное действие. Они увозят ее подальше, прячут эту реальность от окружающих. По словам Фуко, заключение как феномен борьбы с безумием оправдывается жаждой избежать скандала. В этом проявляется отвратительная «заразность» одержимости:
«Есть аспекты зла, которые обладают такой силой заражения, такой силой скандала. что любая огласка умножает их бесконечно. Только забвение может подавить их.»
«Зловещие мертвецы: Черная книга», реж. Ф. Альварес, 2013
«Древние ритуалы», реж. К. Алендер, 2020
Это же подтверждает фильм «Дверь дьявола» (Эйслинн Кларк, 2018), действие которого происходит в ирландском рабочем доме под названием «приют Магдалины». В реальности, в подобных исправительных учреждениях содержались «падшие» бедные женщины — проститутки, внебрачно беременные, показывающие симптомы ментальной нестабильности. Фильм открывается кадрами их лиц, где по обеим сторонам от женщин стоят монахини. В сценах в прачечных женщины также находятся под постоянным наблюдением: одна из них смотрит в камеру и поет песню, за что сразу же получает пощечину. Такому же заключению подвержена беременная одержимая девушка в подвале. Создавая узнаваемый исторический сеттинг для сюжета, фильм напрямую связывает мистическое состояние одержимости и реальное капиталистическое предназначение заключения «падших» женщин:
«… заключение было вызвано чем-то совершенно иным, чем забота о лечении больных. То, что делало его необходимым, был императив труда. Наша филантропия предпочитает признавать признаки благожелательного отношения к болезни там, где есть только осуждение безделья.»
— Мишель Фуко
«Дверь дьявола», реж. Э. Кларк, 2018
Восприятие одержимости как одной из форм безумия, болезни, объясняет и дополняет жестокое физическое восстание против «правильного» порядка жизни, о котором так много говорилось ранее. Экзорцизм, как и медикализацию, можно воспринимать как переход власти от наказания тела к контролю над ним — к «спасению души». Очищение тела с помощью ритуала и сакральных объектов является, таким образом, видом лечения, проявлением биовласти. Феномен одержимости в хорроре особо важен тем, что, стремясь произвести на зрителя ужасающий эффект, не скрывает отвратительности, используемой в биополитических целях.
насилие
Фильмы ужасов созданы для того, чтобы нарушать границы зрительских убеждений, шокируя столкновениями с Другим. Часто для этого используется жестокое насилие, являющееся, при этом, фундаментальной частью хоррор-зрелища. Можно сказать, что это одна из главных точек притяжения ужаса для тех, кто готов заставить себя чувствовать дискомфорт. Насилие в хорроре можно рассматривать через призму идентификации, как, например, это делает Кэрол Дж. Кловер. Как и многие другие исследователи хоррора, она делит идентификацию на первичную (зритель идентифицируется с камерой, с ее действиями и движением) и вторичную (у зрителя развивается эмпатия к персонажу):
«Оба варианта изменчивы, идентификация персонажа на психоаналитических основаниях, поскольку конкурирующие фигуры резонируют с конкурирующими частями психики зрителя (мазохистская жертва и садистский монстр, например), а идентификация камеры — на кинематографических, поскольку камера может с легкостью принимать различные позиции — не только позиции персонажей, но и всеведущие — и обладать различными степенями „личности“…»
«Глаза Звезды», реж. К. Колш, 2014
В этом контексте, особый интерес для Кловер представляет последняя девушка («final girl»), жертва-герой, со страданиями которой зритель идентифицирует себя нарративно и кинематографически. Как уже было описано в разделе «Присутствие камеры» Главы i, эта идентификация провоцируется, например, «догоняющей» героиню камерой. Интересно то, что с главными героями-девушками охотно идентифицируют себя и мужчины, феминизированные страхи вызывают отклик не только у женщин. Ужасающее насилие в хорроре имеет возможность преодолевать разрывы в гендерном опыте:
«…возможность, которую редко рассматривают теория кино, кинокритика, анализ культурных исследований, рецензии на фильмы и популярные политические комментарии: возможность, что зрители-мужчины вполне готовы идентифицировать себя не просто с экранными женщинами, но с экранными женщинами в мире фильмов ужасов, экранными женщинами в страхе и боли.»
— Кэрол Дж. Кловер
Этим объясняются, например, конфликт частого отображения сексуального насилия в фильмах о демонической одержимости без понятной, на первый взгляд, целевой аудитории: с одной стороны, зрительницы, пострадавшие от мизогинного насилия, идентифицируют себя с одержимыми девушками и их бунтом против угнетения, а с другой, ретравмируются теми же графическими изображениями изнасилований. Возможное объяснение этому лежит не только в том, что для мужчин столь же важны эти ужасные переживания и идентификация себя как жертвы патриархального насилия, но и в том, что привлекательность хоррор-зрелища выходит за пределы идентификации с персонажами внутри фильма и распространяется на зрителя фильма. А. Лоуэнштейн видит в этом связь с ранним «кинематографом аттракционов», в котором не так много внимания уделено созданию сложных и психологичных характеров героев — «его энергия движется наружу, к признанному зрителю, а не внутрь».
«Ночь демонов», реж. К. Тенни, 1988
В своем исследовании о «зрелищном» хорроре Лоуэнштейн обсуждает фильм «Хостел» и подобные ему, обычно пренебрежительно называемые пыточным порно («torture porn»), однако такой метод создания и исследования ужасов, заинтересованный меньше в идентификации и больше — в интеракции со зрителем, представляется очень ценным и для исследования поджанра о демонических одержимостях, где ультра-красочное насилие появляется редко. «Зрелищный» хоррор признает зрительское отторжение и периодически возникающее нежелание идентифицировать себя ни с протагонистом — беспомощной жертвой, ни с антагонистом — безжалостным убийцей, а главное, противостоит мнению о том, что аттракцион несовместим со значимой историей.
Вновь становится очевидно, что фильм о демонической одержимости существует на дискурсивной границе. Несмотря на то, что он глубоко вовлечен в страдания тела и дискурс сексуального и домашнего насилия, его невозможно рассматривать исключительно зрелищно, без идентификации с персонажем. Если в более прямолинейном «зрелищном» хорроре зритель испытывает трудности идентификации с персонажами на экране, то демонический хоррор непременно подталкивает зрителя к эмпатии. Это определенно делает его более приглушенным, полноценно не склоняющимся ни в одну, ни в другую сторону. Возможно, в подобной лиминальности кроется причина пренебрежения к поджанру, однако автор данной работы предполагает, что именно этот интерес к наложениям и пересечениям делает его уникальным. Рассмотрим эти пересечения в изображении насилия на экране.
В демоническом хорроре экзорцизм представляет собой спектакль страданий, для него центрально не только изгнание дьявола из тела, но и то, какую физическую боль это изгнание приносит. В фильмах «Последнее изгнание дьявола» (Даниэль Штамм, 2010), «Шесть демонов Эмили Роуз» (Скотт Дерриксон, 2005), «Заклятие» (Джеймс Ван, 2013) и других сцены экзорцизмов продолжительные и неоднократные, в некоторых случаях они имеют хронометраж в районе 10 минут. В «Последнем изгнании дьявола» актриса в роли Нелл, Эшли Белл, которая страдает гипермобильностью суставов, сама выполняла все искажения тела, что придает сцене особую физичность.
«Последнее изгнание дьявола», реж. Д. Штамм, 2010
В «Заклятии» во время экзорцизма проведена интересная параллель с одним из самых известных образов боди-хоррора в истории кино — сцена с грудоломом из «Чужого». Также как и в той сцене, ткань, которой накрыта Кэролин, сначала окрашивается в красный, а затем рвется: несмотря на ограниченный взгляд на телесную трансформацию, именно то, что не показано, вызывает чувство отвращения. Во всех трех названных фильмах большую часть страдания героинь отражают выражения их лиц, что провоцирует зрительскую эмпатию.
«Заклятие», реж. Дж. Ван, 2013
«Шесть демонов Эмили Роуз», реж. С. Дерриксон, 2005
Лоуэнштейн рассматривает акт пытки в «пыточном порно» как тоску по тактильному контакту. Экзорцизм можно вписать в эту же парадигму, однако он, наоборот, представляет собой не приближение к телу, а отдаление: во время этих сцен персонажи часто стоят поодаль от одержимой или прикасаются к ней довольно редко и осторожно. Вместе с этим, жажда преодолеть зону опасности, которую вокруг себя создает одержимое тело, все еще присутствует. Это напряжение улавливает фильм «Дьяволы» — как было уже описано, экзорцизм в нем становится одновременно похож и на пытку, и на сексуальный акт. Сексуальная фантазия об Урбене Грандье заставляет Жанну проткнуть себе руку крестом, «промывания» отверстий в телах монашек производятся фаллическими объектами. Заключение и насильственное очищение одержимых тел в фильме нарушает границу осторожности, присутствующую в других фильмах, подсвечивает жажду приближения к телу с помощью насилия.
«Дьяволы», реж. К. Рассел, 1971
Одним из самых шокирующих фильмов поджанра можно считать фильм «Реинкарнация», в котором присутствует несколько особо ярких сцен обезглавливаний. Возвращаясь к сопоставлению «зрелищного» хоррора и кинематографа аттракционов, его популярность можно связать со словами киноведки М. Доэн о том, что особенно популярным жанром раннего кино был «фильм о казни». Примером этого можно считать «Казнь Марии, королевы Шотландии» (Альфред Кларк и Уильям Хейзе, 1895), в котором исторический инцидент воспроизведен, как аттракцион зрелищного ужаса. В современном сознании это сразу же вызывает ассоциацию с обезглавливании людей членами террористической группировки «Исламское государство» [запрещенная в России международная террористическая организация], запечатленными на видео. Из книги Дж. Охтер «Глобальная политика трупа»:
«Столичная полиция Великобритании быстро объявила преступлением просмотр или распространение видеозаписи обезглавливания Джеймса-Райта Фоули (Halliday 2014). То есть сами изображения подверглись (в буквальном смысле) полицейской проверке, а акт просмотра был криминализирован. Уязвимость тела сама по себе считалась слишком непристойной для просмотра, лиминальное пространство между жизнью и смертью делалось гипервидимым благодаря видеоматериалам, и закон был попыткой вновь оградить человеческое тело от этих тревожных визуальных образов.»
Намеренно или нет, «Реинкарнация» запечатлевает эту обсессию не только самим обезглавливанием как потерей личности, символическим устранением части тела, являющейся наиболее антропоцентричной, но и устранением возможности его увидеть. Это лучше всего проявляется в сцене, где Анни воспроизводит сцену, в которой голову ее дочери Чарли отрывает столбом, в виде миниатюры. Представляя возможность идентификации с Анни и ее травмой, фильм также взаимодействует со зрителем, повторяя ужасающие сцены обезглавливания: не только главная героиня хочет снова и снова видеть травматичный для нее акт, но и сам зритель. Бросающееся в глаза насилие в этом случае является также инструментом ощущения себя в контексте событий.
«Реинкарнация», реж. А. Астер, 2018
Стиль найденной пленки, в свою очередь, играет как на осознании зрителем технологии, так и на первичной идентификации с камерой. «Последнее изгнание дьявола» опирается на конвенции документального кино — начало фильма полностью состоит из традиционных интервью и создает пространство, полностью подконтрольное персонажам-кинематографистам и, следовательно, зрителю. В течение фильма интервью все больше заменяются съемкой, в которой наблюдение совмещается с участием, чувство контроля теряется. Кульминационной точкой в этом смысле становится сцена с кошкой: одержимая Нелл берет камеру и убивает ею кошку, после этого снимая окровавленной камерой героев фильма. Несмотря на висцеральную образность сцены, при непрерывном просмотре трудно выделить более пары образов — живая кошка и мертвая кошка, превращенная в кровавое месиво. Ужасающий аспект насилия заключается в ощущении физичности камеры, ее веса и воздействия на такое маленькое и беззащитное существо.
«Последнее изгнание дьявола», реж. Д. Штамм, 2010
Для поджанра, в котором бинарность добра и зла составляют столь значительную часть повествования и тематики, финал «Последнего изгнания дьявола» раздвигает границы ожиданий, физически препятствуя кульминационным деталям: в темноте невозможно разглядеть насилие, совершаемое над членами съемочной группы. Камера, опять же, выхватывает лишь пару образов, зритель только смутно представляет себе, кто герои, а кто злодеи.
«Последнее изгнание дьявола», реж. Д. Штамм, 2010
В фильме «Репортаж» (Пако Пласа, Жауме Балагеро, 2007) технология съемки насилия раскрывает возможность темпоральной манипуляции событиями внутри стиля найденной пленки. После убийства одержимой женщины главная героиня-репортерка просит своего оператора перемотать только что снятое — она хочет еще раз взглянуть на шокирующее событие, чтобы подтвердить, что оно действительно произошло. Кроме того, зернистость отснятого материала и отсутствие должного освещения играют на восприятии зрителями журналистского расследования. Заснятое таким образом насилие кажется гораздо более приближенным к реальности.
«Репортаж», реж. П. Пласа, Ж. Балагеро, 2007
«Репортаж», реж. П. Пласа, Ж. Балагеро, 2007
«Наконец, есть само женское тело, метафорическая архитектура которого, с его открытым для входа, но невидимым внутренним пространством, которое уже так долго служит для создания зловещего.»
— пишет Кловер. В разделе «Тело» Главы iii ужасающий аспект женского тела уже был рассмотрен, однако стоит заметить и то, как фильмы об одержимости чаще всего подталкивают зрителя к идентификации с насилием именно над женщинами, потому что женские тела предполагают «естественный вход». Метафорически это присутствует в «Изгоняющем дьявола» в образе открытого окна в комнате Риган. Оно постоянно распахивается, будто само собой, Крис безуспешно пытается его закрыть, и из этого же окна выпадают мужчины: сперва из него выпадает Берк, а после отец Каррас.
«Изгоняющий дьявола», реж. У Фридкин, 1973
Чаще всего, эта метафора приближена к фактическому телу героинь — демон или нечто, что его обозначает, входит в отверстия, обычно задействованные в сексуальных актах — рот и влагалище. Хотя образ вызывает ассоциацию с сексуальным насилием, условный «насильник» часто абстрагируется с помощью метафоры, оставляя зрителю возможность идентифицировать себя с единственным присутствующим человеческим персонажем. В то же время, процесс часто показан ужасающим и жестоким, и это ощущение подкрепляется быстрым и резким монтажом.
слева направо «Лус», реж. Т. Зингер, 2018; «Шкатулка проклятия», реж. У. Борнедаль, 2012; «Уиджи. Проклятие доски дьявола», реж. М. Флэнаган, 2016
«Бабадук», реж. Дж. Кент, 2014
Например, сцена «изнасилования деревом» в оригинальном фильме «Зловещие мертвецы» (Сэм Рэйми, 1981) включает в себя срывание одежды и насильственное раздвигание ног (камера надвигается прямо между ног героине), что было значительно смягчено в ремейке 2013 года. В «Зловещих мертвецах: Черная книга» сцена облегчена в том числе тем, что в кадре присутствует третий персонаж — Мия в демонической форме. Благодаря тому, что в сцене присутствует одержимый двойник героини, зрителю есть на чем сосредоточиться, помимо изнасилования. Можно сказать, что фильм об одержимости стремится скорее к смягчению отображений сексуального насилия, не показывая буквального акта насилия, а представляя его через удаление перспективы насильника.
«Зловещие мертвецы: Черная книга», реж. Ф. Альварес, 2013
Однако есть и фильмы, в которых буквальное изнасилование становится точкой входа демонических сил в жизнь героини, такие как «Ребенок Розмари» (Роман Полански, 1968), «Глаза Звезды» (Кевин Колш, 2014) и «Грэйс» (Джефф Чан, 2014). Несмотря на присутствие человеческой фигуры насильника в этих фильмах, зрителя все равно подталкивают к сопереживанию женщине — например, в фильме Полански зритель не видит самого акта полностью, а только попадает в подсознание героини во время него. После этого зритель сразу видит реакцию героини на слова ее мужа о том, что «не пропускать же ночь зачатия <…> было даже по-некрофильски забавно». После этого камера следует за Розмари, когда она открывает окно и принимает душ — все эти действия символизируют очищение и выпуск чего-то наружу: она чувствует обиду на действия мужа, но не готова задуматься об ужасающей реальности изнасилования в браке.
«Ребенок Розмари», реж. Р. Полански, 1968
В «Глазах звезды» сцена изнасилования производит более пугающее впечатление, потому что камера играет всевидящую роль — крупными планами показывает лица и жертвы, и насильника, раздваивая точку зрения сцены. В фильме «Грэйс», хоть насилуют не главную героиню, а ее мать, эта сцена является ключевой для фильма, так как она обозначает поколенческую сексуализированную травму. Главная героиня во флешбеке берет мать за руку, пока ту насилует священник, и их руки сливаются в одну, отражая чувство Грэйс, что это насилие было совершено и над ней. Можно предположить, что лица насильников в этих фильмах показаны, потому что они представляют собой не просто людей, а архетипы мужчин во власти, злоупотребляющих ей — священник и голливудский продюсер. Это отражает повышенное внимание в 21-м веке к сексуальному насилию в структурах власти, иллюстрируемые, например, расследованиями The Boston Globe о случаях сексуального насилия в католической церкви в начале 2000-х и движением #МеТоо в 2010-х.
«Глаза Звезды», реж. К. Колш, 2014
«Грэйс», реж. Дж. Чан, 2014
Домашнее насилие со стороны одержимых мужчин в фильмах «Сияние» (Стэнли Кубрик, 1980) и «Ужас Амитивилля» (Стюарт Розенберг, 1979) — это также идентификационное насилие, не только в смысле соотношения зрителя с персонажами, но и персонажей друг с другом. Интересными здесь кажутся сцены, где оба мужчины, Джек Торренс и Джордж Латц, разбивают топорами двери. Джордж пытается пробиться в ванну, где прячутся его дети, однако Кэти отвлекает его внимание, он замахивается на нее, но в итоге роняет топор, они обнимаются. Джек в течение нескольких минут наступает на Венди вверх по лестнице, после чего она прячется в ванной одного из номеров отеля, а Джек пытается разбить дверь туда топором. Эти сцены домашнего насилия демонстрируют парадоксально перекрестное течение желания: желание отдалиться, и желание сблизиться, изображенное в акте взлома и вскрытия двери.
«Сияние», реж. С. Кубрик, 1980
«Ужас Амитифилля», реж. С. Розенберг, 1979
Насилие как стремление к соединению и смерть как разрешение этого конфликта — центральная тема «Одержимости». Персонажи фильма заменяют потерянную сексуальную близость физической агрессией друг к другу; они яростно трясут друг друга и дают пощечины: они пытаются найти выражение своего тактильного желания, которое соответствовало бы их изменившимся отношениям. Это очевидно в сцене, где сначала Анна, а потом и Марк, делают порезы на своем теле одним и тем же ножом — нанесение похожих ран становится попыткой найти хоть какую-то точку соприкосновения. В финале фильма они умирают, лежа бок о бок, залитые кровью. Они делят последний поцелуй, их кровь смешивается, достигая объединения, к которому они стремились все это время.
«Одержимость», реж. А. Жулавский, 1981
Итак, можно сделать вывод, что насилие в демоническом хорроре отражает не отторжение, а, наоборот, несет повышенный интерес к тактильности, к прикосновению — прикосновению не только к физическому телу, но и к телу как объекту истории. В этом вновь заметна одна из уникальных черт этого поджанра: существуя на границе между зрелищем и идентификацией, он способен вызывать чувства родства и причастности через ужасающие образы, не только позволяя зрителю идентифицироваться с персонажем, но и заставляя его взаимодействовать с медиумом в его историческом контексте.
дьявол
Если подходить с демоническому хоррору с точки зрения хонтологии, то дьявол в этих фильмах, будучи величайшим злом, как бы одновременно и существует, и нет. Зритель практически никогда не видит его самого, но сталкивается с признаками и последствиями — младшими демонами и их нападениями на тела людей. Хонтология существует в контрасте не только с онтологией, но и с самой историей: появление призрака — в данном случае, демона — ломает структуры, установленные историей, напоминает что-то, что история считает прошедшим и мертвым, все еще живо в настоящем. В этом подразделе будет рассмотрено, как локусы, из которых приходят демоны, связаны с представлениями людей об «экзотических» местах и о том, что связь с прошлым в них глубже, чем в современной метрополии.
Деррида утверждает, что отрицание существования призрака является верным признаком его присутствия — не это ли можно увидеть в фильмах о демонической одержимости, в которых настолько центральную роль занимает мотив поиска правды? Вместе с тем, демоны часто появляются перед зрителем в физической форме, но самого дьявола он не видит никогда. Из-за этого, дьявола следует рассматривать скорее как дьявольское, хонтологическую силу, связывающую прошлое с будущим, как нечто, пока что бестелесно существующее в мире, рискующее вот-вот материализоваться.
Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Н. Кэролл пишет о том, что фантастические сущности в фильме ужасов можно рассматривать, как символические формы, которые организуют и содержат в себе противоречащие темы, вызывающие одновременно влечение и отвращение:
«В этом отношении, наиболее заметными представляются две основные символические структуры: слияние, при котором конфликтующие темы соединяются в одной пространственно-временной единой фигуре; и расщепление, при котором конфликтующие темы распределяются — в пространстве или во времени — между несколькими фигурами.»
Дьявол, если он рассматривается в оппозиции Богу, отличается от него как раз тем, что является монстром слияния: если Бог это чистый свет, чистая любовь, то в дьяволе эти идеи всегда «загрязнены» чем-то еще. Если места присутствия Бога для персонажей хорроров очевидны (церковь, небеса), то концепция Ада как места присутствия дьявольского, как пишет Пьеро Кампореси, традиционно начинается с противоположности тому, что человек знает, что он ценит и чего он желает. Демоны, следовательно, всегда приходят откуда-то. В «Сиянии» — это культура коренных американцев и геноцид над ней, в «Последнем изгнании дьявола» — сельская Америка в противопоставлении городу, в «Глазах звезды» — роскошные особняки ультра-богатых. Это отображает столько же классовых тревог, сколько и колониальных напряжений по поводу экзотизированных коренных народов, чья культура, при всей нагрузке на нее фетишизации и коммодификации, остается неизвестной и, возможно, непознаваемой во всей ее полноте для белых людей.
К примеру, проводником демонических сил в фильме «Затащи меня в ад» (Сэм Рэйми, 2009) является женщина из народа Рома — именно она проклинает главную героиню, натравливая на нее демона Ламию. Внутри фильма Ламию описывают следующим образом: «черная коза, которую цыгане призывают для своих самых темных дел». На самом деле, Ламия не является ни козой, ни демоном из мифологии Рома, а персонажкой со змеиным телом из греческих мифов, поедающей своих отпрысков и часто используемой в качестве страшилки для детей. Это мифологическое заблуждение в фильме сочетается с традиционными колдовскими образами — проклятым предметом (пуговицей), который дается человеку или прячется в его вещах, чтобы вызвать трагические события. В христианской традиции нет возможности проклясть кого-либо, этот еретический акт возлагается на Другого, ведьму или человека, пришедшего из совершенно иной культуры. Смешение мифологических образов здесь можно интерпретировать как желание белых создателей сконструировать конкретного Другого без глубокого понимания традиции, на которую они ссылаются.
«Затащи меня в ад», реж. С. Рэйми, 2009
Похожее конструирование демонического Другого можно увидеть в «Изгоняющем дьявола». Фильм начинается со сцены в Ираке, где отец Меррин находит тотем демона Пазузу. Сцена создает ощущение напряжения и предчувствия ужасающих событий посредством помещения белого протагониста в чуждое окружение, пользуясь ориенталистскими точками напряжения — показано, что жаркий климат вредит физическому состоянию священника, а окружающие его люди носят сильно отличающуюся одежду и принимают участие в отличающихся ритуалах, таких как намаз и распитие чая из больших сложносоставных чайников. Первым кадром сцены создается ощущение, что само солнце на Ближнем Востоке светит по-другому, оно недвижимо — Другой мир всегда заперт в состоянии безвременья.
«Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Б. Крид в своем анализе фильма подчеркивает, что особой точкой напряжения становится появление женщин в черных одеждах: они идут по улице мимо Меррина, одна из них угрожающе смотрит на священника с крыши, а третья внезапно проезжает мимо него в повозке. Повозка почти давит Меррина, в то время как старуха смотрит на него с беззубой ухмылкой. Остальные арабы, окружающие героя, также смотрят на него, их взгляд выражает непонятные суждения, а иногда они и вовсе не замечают его. Многие из них активно, почти агрессивно заняты работой. Из книги «„Злые“ арабы в американском популярном кино: Ориенталистский страх» Т. Дж. Семмерлинга:
«Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
«Арабы непрерывно и маниакально бьют по обувной коже, по железу и по дереву. Стит отмечает, что показывать арабов в неистовстве — обычный ориенталистский троп, всегда помещающий их в сферу нестабильности. Подобно демонам средневекового ада, эта эссенциализированная деятельность представляется нам профессией арабов.»
— пишет Тим Дж. Семмерлинг
«Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Все это создает впечатление о людях Ближнего Востока как о массе, враждебной главному персонажу. Эта идея коллектива находится в строгой оппозиции с атомизированным либеральным человеком Запада, где частная собственность и индивидуализм оказываются величайшими добродетелями.
«Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Можно предположить, что страх культа дьяволопоклонников произрастает из этого же социокультурного конфликта. При этом, культы в поджанре фильмов о демонической одержимости все же сильно связаны с христианской образностью или существуют в соприкосновении с христианской религией. На это указывает, например, образ ребенка-антихриста в «Ребенке Розмари» и перерождение главной героини в «Глазах звезды», отражающее воскрешение Христа.
«Ребенок Розмари», реж. Р. Полански, 1968; «Глаза звезды», реж. К. Колш 2014
В фильме «Реинкарнация» печать Пеймона используется членами культа почти как распятие — они носят ее на груди, а финальным кадром становится собрание культистов в домике на дереве: идол у дальней стены и треугольная крыша вызывают в памяти католический храм. В фильме подчеркнута и традиционная для фолк-хоррора тревожность перед народом (folk), группой людей с отличающейся системой морали и верой. В течение фильма члены культа появляются отдельно — персонажи видят их через решетчатые заборы, через объекты, создающие расстояние. По мере приближения финала фильма народ продвигается ближе, в дом героев, разрушая все преграды и заменяя старое мировоззрение новым. В этом смысле, христианство рассматривается не как нечто отдельное, а как ступень эволюции в Другое, где каждый символ и ритуал подвергается изменениям. Культ, если рассматривать его как своеобразного монстра, является монстром расщепления — из цельной картины мира и человечества, в которой сосуществуют индивидуализм и коллектив, при его победе остается только коллектив.
«Реинкарнация», реж. А. Астер, 2018
В этом контексте становится понятно, почему фильмы о демонической одержимости так часто имеют привязку к конкретным именам демонов — это реликты культур, которые христианство, в свое время, подавило и поглотило. Так, демоны Азазель, появляющийся в фильме «Падший» (Грегори Хоблит, 1998) и Баал из фильма «Обряд» (Микаэль Хофстрём, 2011) были семитскими богами, Абалам из «Последнего изгнания дьявола» и Пеймон из «Реинкарнации» — джиннами, Пазузу в ассирийской и вавилонской мифологии был защитником от болезней и злых духов, а Валак из франшизы «Заклятие» — мальчик с ангельскими крыльями, имеющий способность находить скрытые сокровища. Хонтология этих существ становится очевидной: это призраки древних культур, преследующими современный мир. Их первоначальные цели полностью изменились, теперь они используются как сосуды для общей идеи Дьявола, нового порядка, который на самом деле является возрождением старого.
сверху «Падший», реж. Г. Хоблит, 1998; «Обряд», реж. М. Хофстрём, 2011; снизу «Заклятие», реж. Дж. Ван, 2013; «Реинкарнация», реж. А. Астер, 2018; «Последнее изгнание дьявола», реж. Д. Штамм, 2010
В фильмах «Мать Иоанна от ангелов» и «Шесть демонов Эмили Роуз» женщины одержимы сразу несколькими демонами: их восемь в теле Иоанны и шесть в теле Эмили. При этом, они никак не различаются между собой, они не имеют отдельных характеров и присутствие кого-то одного из них никак визуально не обозначается. Они действуют скорее как коллективный разум, вновь противопоставляются индивидуалистической культуре.
«Мать Иоанна от ангелов», реж. Е. Кавалерович, 1961
«Шесть демонов Эмили Роуз», реж. С. Дерриксон, 2005
Еще одним примером монстра расщепления является двойник, расщепление здесь может быть как умножением в пространстве, так и разделением одного человека во времени. Первый вариант встречается в фильме «Заклятие: По воле дьявола»: когда Лоррейн находится в подземелье, она видит своего двойника, точно повторяющего ее движения, поэтому когда она начинает убегать, то двойник бежит как бы за ней и вместе с ней одновременно. Это несколько дезориентирует — когда одна Лоррейн бежит к двери, третья фигура быстро закрывает ее, показывая, что это настоящая Лоррейн. Невозможность понять, кто из персонажей настоящий, а кто — наваждение, а также отсутствие света на лице одного из двойников создает напряжение в прямолинейном пространстве коридора.
«Заклятие 3: По воле дьявола», реж. М. Чавес, 2021
Демонический двойник, которого Мия из фильма «Зловещие мертвецы: Черная книга» видит до и во время сцены изнасилования деревом, представляет собой одновременно отделенную часть героини, олицетворяющую ее зависимость, и версию Мии из будущего, в котором она уже одержима. В определенный момент двойник отражает выражение ее лица — можно наблюдать, как ее будущее становится ее настоящим.
«Зловещие мертвецы: Черная книга», реж. Ф. Альварес, 2013
Более сложная система двойников изображена в фильме «Одержимость» Анджея Жулавского. Сперва в фильме появляется Хелен, чья внешность практически полностью идентична Анне, однако отражает и противоположность — ее волосы, в отличие от спутанных темных волос Анны, рыжие и собраны в косу, платье не синее, как у главной героини, а белое, и глаза зеленые. Ближе к финалу странное существо с щупальцами, за которым ухаживала Анна, превращается в двойника Марка: в контексте сцены двойник тоже кажется противоположностью, у него абсолютно чистое лицо по сравнению с испачканным кровью лицом Марка, а глаза темные, почти черные. Подобно новорожденному чудовищу Франкенштейна, двойник Марка с удивлением смотрит на пистолет и не понимает, как пройти в дверь. В конце фильма двойник Марка зловеще прислоняется к двери квартиры, где теперь живет Хелен с сыном Анны и Марка. Эта замена идентичности и апокалиптический характер финала означают, что, хотя главные герои умерли, их фракенштейнианские Другие личности продолжают жить — лишенные любви или даже ненависти, любых настоящих эмоций, которые Марк и Анна испытывали друг к другу.
«Одержимость», реж. А. Жулавский, 1981
Как же выглядит абсолютное зло в фильмах о демонической одержимости? Пожалуй, самый интересный образ во всем поджанре — метафорическое изображение Ада и дьявольского через аморфную субстанцию: в «Ужасе Амитивилля» это дыра в подвале дома, наполненная черной грязью, в фильме «Князь тьмы» (Джон Карпентер, 1987) это разумная жидкость, которая оказывается Сатаной, или, как его называют в фильме, «Анти-Богом», в «Сквозь горизонт» это анти-гравитационная субстанция черной дыры в двигателе космического корабля. Такой достаточно лавкрафтианский образ на определенном уровне кажется наиболее чуждым атомизированному современному человеческому существованию. Идеальный монстр слияния, он представляет способ существования, не имеющий пространственных или телесных границ, преодолевший необходимость в субъектности. В этой свободно текущей форме знание и все то, что создает идентичность, путешествует свободно, и именно поэтому, когда над ним доминирует человечество, оно сдерживается и локализуется в «контейнерах».
сверху «Ужас Амитифилля», реж. С. Розенберг, 1979; в центре «Князь тьмы», реж. Д. Карпентер, 1987; снизу «Сквозь горизонт», реж. П. Андерсон, 1997
Менее абстрактное изображение демонической сущности–монстра слияния может быть свободно названо химерой — она имеет тело, состоящее из множества животных черт, часто антропоморфна, стоит на задних лапах (демон из фильма «Демоник» (Нил Бломкамп, 2021), например, выглядит, как гуманоид с птицеподобной головой, когтями и львиной гривой). В каком-то смысле, все монстры — химеры. Они состоят из несочетаемых частей, физических или символических, их идентичность нестабильна и непредсказуема. Словами К. Крессер:
«Само слово „монстр“ связано с латинским глаголом „monstrare“, что означает „показывать“. Это дает представление о психологической силе химеры. Будучи загадочным гибридом других, более понятных вещей, химерический „монстр“ не сразу становится понятным как вещь. Его нельзя обозначить словесно и отнестик какой-то ранее существовавшей ментальной категории; скорее, нужно его увидеть, чтобы поверить.»
«Демоник», реж. Н. Бломкамп, 2021
Иногда демоническую химеру представляют состоящей больше из идей, связанных с человеческим опытом, чем физических частей других животных. Например, в фильмах «Изгоняющий дьявола» и «Шкатулка проклятия» (Уле Борнедаль, 2012) демоны почти полностью антропоморфны, напоминают тяжело больного человека, как будто гниющего заживо (что идейно возвращает к разделу «Болезнь» настоящей главы). У Пазузу зритель видит черные круги под глазами, рецессирующие десны и гниющие зубы. Демон в «Шкатулке проклятия» похож одновременно на новорожденного ребенка и на сморщенного от старости старика. Он не может самостоятельно ходить, медленно ползает по полу. Эта слабость монстра служит подтверждением его бессилия без человеческого тела, которое он хочет занять, так же как ребенок бессилен без родителя.
слева «Шкатулка проклятия», реж. У. Борнедаль, 2012; справа «Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Что более напрямую связывает демона-химеру с древнегреческой химерой — это его козлоподобные черты: длинное лицо и длинные рога. Связь дьявола с образом козы традиционна для представлений о ведьмах и их общении с дьявольскими силами, которое имеет подтекст сношения с животными, а следовательно, неоднозначной сексуальной идентичности. С. Федеричи описывает это в книге «Калибан и ведьма» следующим образом:
«Ни одно преступление не внушало бы большего ужаса, чем соитие со зверем, настоящее нападение на онтологические основы человеческой природы, все больше отождествляемой с ее самыми нематериальными аспектами. Но избыток животного присутствия в жизни ведьм также предполагает, что женщины находились на (скользком) перепутье между мужчинами и животными, и что не только женская сексуальность, но и женственность как таковая, сродни животности.»
сверху «Февраль», реж. О. Перкинс, 2015; «Затащи меня в ад», реж. С. Рэйми, 2009; снизу «Ночь демонов», реж. К. Тенни, 1988; «Ведьма», реж. Р. Эггерс, 2015; «Древние ритуалы», реж. К. Алендер, 2020
По похожей схеме некоторые одержимые, такие как Дебора Логан и Риган, связаны со змеями и в течение фильма обретают все более змеиные черты: Риган по-змеиному двигает языком, а Дебора пытается проглотить ребенка целиком. Само имя Риган отсылает к Регане, дочери короля Лира из одноименной пьесы Уильяма Шекспира, которая также сравнивается со змеей. Это можно расценивать как предвестие будущей одержимости: через свое имя девочка ассоциируется с символом женского неподчинения и необузданной сексуальности. Пазузу— олицетворение дьявола и супруг богини-змеи Ламии в ассирийской мифологии — особенно заинтересован в Риган и ее положении девочки с ангельской внешностью, но подавленной сексуальностью внутри.
«Изгоняющий дьявола», реж. У. Фридкин, 1973
Становится очевидно, что страх дьявола в фильме о демонической одержимости происходит не столько из противостояния Богу по моральным характеристикам — это страх потери стабильной идентичности. Демонические силы смешивают строгие границы — границы сексуальности, границы тел, видов, народов и времен. Страх лишиться идентичности естественен тогда, когда от этой идентичности зависит власть в обществе. В этом проявляется еще одна уникальная черта хоррора и ужасающего зрелища на уровне взаимодействия со зрителем: они ставят человека лицом к лицу с властью, которую он имеет над другими, и с тем, насколько хрупкой может быть эта власть.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хоррор о демонической одержимости — постоянно эволюционирующий поджанр, привязанность которого к реальным случаям одержимости в истории позволяет размышлять о распределении власти в обществе и виктимизации тех, кто этой властью обделен. При анализе «Изгоняющего дьявола», его предшественников и его формативного влияния на последующие фильмы, становится понятно, что одной из первых точек исследования должен стать психоанализ: как в отношении изображения внутрисемейных динамик, так и истерических тел и их соприкосновения с государственной властью и ее биополитикой. Из-за этой интенсивной заинтересованности в теле, влияние политических событий, таких как раскрытие массовых случаев системного насилия, становится очевидным так же, как и внутренняя репрессия одержимого человека. Это позволяет подойти к одержимому телу как к парадоксально сильному телу, а не как к исключительно агенту или жертве, потому что это тело, через которое говорят история и социальная напряженность.
Используя основные кинематографические инструменты, такие как движение камеры, цвет и освещение, поджанр конструирует своих жертв и насильников. Эти инструменты прокладывают путь персонажей, направляя их как в физических путешествиях к потустороннему миру, так и в душевных, в кризисе их веры. Сооружение истины также особенно важно в этих фильмах, что иллюстрируется принятием камерой точки зрения персонажей. Рассматривая паранормальный опыт либо физическими глазами, либо глазами-камерой человека, переживающего его, эти фильмы обеспечивают героям безусловную эмпатию. Зрелище одержимости становится прямым обращением к зрителю через кинематографический опыт переживания одержимости. Психогеографический анализ диегетических мест, куда фильм об одержимости приводит своих героев, укрепляет эту связь, подрывая или утверждая ожидания зрителя в отношении физического пространства и того, что оно должно производить в реальном мире. Иногда резкая остановка производства, обеспечивает катарсис и снимает напряжение, возникающее при поддержании идеологической структуры, которая стала настолько неотъемлемой частью жизни зрителей, что ее деконструкция может ощущаться как апокалиптическое разрушение.
«Дьяволы», реж. К. Рассел, 1971
Это разрушение одновременно ужасает и внушает благоговение. Использование религиозной символики усиливает эту реакцию, связывая повседневные внутренние конфликты существования при капитализме с религиозной духовной борьбой, сомнением в существовании высшей силы в обществе, где товары стали объектами священного значения. Такой перформативный и грандиозный ритуал экзорцизма становится инструментом возвращения к порядку из состояния хаоса. Консервативный по своей форме, он имеет очень строгие гендерные роли, но эта строгость еще сильнее облегчает подрывание его основ. В более широком смысле, экзорцизм часто является актом сотрудничества вопреки правилам, установленным властями. Он заставляет персонажей разных классов и мировоззрений работать вместе, чтобы изгнать демона. Некоторые сцены ритуалов созданы как аттракционы или театральные представления, которые приглашают и заставляют зрителя вступить в более амбивалентные отношения с фильмом ужасов. Экзорцизм — это одновременно и восстановление порядка, и акт насилия, заставляющий зрителя столкнуться с противоречивой природой работы власти.
Это пересечение, как и пересечение семейного, политического и потустороннего в одержимом теле, раскрывает тот секрет: поджанр больше всего заинтересован интерсекциональностью. Пересечения сексуальности и насилия, чистоты и загрязнения, бытия-человеком и становления-животным — все это отображается на одержимом теле. Видя, как по мере развития фильма одержимые персонажи трансформируются во все более отвратительных, становится очевидным на метауровне, как отвращение используется в качестве одного из инструментов репрессии и идеологического конструирования общества.
Гендерный аспект демонических одержимостей также раскрывает патриархальную идею отвращения: они изображают взлом границ и проникновение внутрь, что неоднократно погружает зрителя в мир менструации, беременности, выкидышей, телесных жидкостей, родов. Все попытки скрыть и подавить уродливую и болезненную биологическую реальность бытия приводят к жестоким бунтам, где скрытое физическое и эмоциональное напряжение вырывается наружу, отвергая все попытки классифицировать и компартментализировать его. В истинно дерридианской манере репрессированное преследует видимую реальность — те конфликты, которые считались прошлыми или несуществующими, больше не содержатся в памяти, они атакуют настоящее с новообретенной агрессивностью. Акт демонстрации тела одержимой женщины как зрелища обладает силой называния невыразимого.
«Шесть демонов Эмили Роуз», реж. С. Дерриксон, 2005
Одержимый человек является для общества тем же, чем психосоматическая болезнь является для тела — он свидетельствует о не вполне физическом болезненном процессе, который больше невозможно скрывать. Болезнь не может быть излечена, если не устранена ее первоначальная причина, и фильм об одержимости предлагает задуматься о том, каковы могут быть эти причины. Политические последствия одержимости и ее «лечения» существовали всегда, и, чтобы увидеть, как они релевантны, стоит только вписать изображение девочки, которую рвет гороховым супом, в более широкий контекст. Именно поэтому образность заражения, как на уровне демонов, путешествующих от тела к телу, так и одержимых тел, испускающих «грязные» жидкости, является столь распространенной. Она представляет собой идею, распространяющуюся вопреки границам и рамкам. Желание приписать каких-то демонов к определенной культуре или привязать к месту на земном шаре также никогда не может быть полноценно удовлетворено, потому что их невыразимая природа не знает ограничений, они всегда будут возвращаться.
В каком-то смысле, через свое ужасающее соприкосновение с Другим и шокирующее зрелище, они направляют человека к открытию неизвестного. В этом контексте даже экранное насилие очеловечивается, поскольку оно становится попыткой ощутить связь в атомизированном обществе, разделенном конкуренцией и индивидуализмом. В этой ярости, направленной на близких, есть интимность, отличающая ее от деспотичного и холодного насилия государства. Через катарсическое разрушение фасадов приличия и цивильности эта ярость способна сблизить человека с самим собой и с теми, кто также разгневан, кто также скорбит. В этом смысле, некоторые герои фильмов об одержимостях остаются рядом со своими демонами, как бы они ни выглядели, навсегда, потому что есть такие демоны, которые никогда не могут быть изгнаны.
«Бабадук», реж. Дж. Кент, 2014
В заключение хочется процитировать слова Мэри Келлер из книги «Молот и флейта: Женщины, власть и одержимость»:
«…одержимые тела обладают парадоксальной агентностью: тело не говорит, через него говорят; тело не бьет, им бьют; тело не седлает, его седлают. Поскольку это не тело индивида (то есть самосозидающего индивида), его сила увеличивается или уменьшается (что на самом деле имеет большие последствия для индивидуального тела). Поскольку одержимое тело используется, сторонние наблюдатели пишут об этом, а сообщества собираются, чтобы отреагировать на это.»
Это исследование, каким бы оно ни было объемным, может служить лишь отправной точкой в более глубокое изучение одержимости и ее последствий с точки зрения различных философских и политических идей. Медиум кино кажется в этом смысле наиболее репрезентативным, так это именно то пространство, в котором образность одержимого тела и экзорцизма была популяризирована и продолжает жить. Каждый раздел данной работы может служить почвой для отдельной обширной работы. Оно покрывает только христианские традиции — исследования одержимости в других культурах, например, феномен одержимости диббуками в еврейской мифологии, также может стать следующей вехой исследования. Для авторки же эта работа стала как академическим занятием, так и попыткой проанализировать родство и причастность, которую она ощущает к фильмам ужасов.